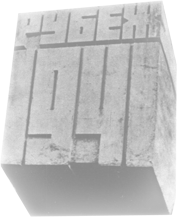Конец ноября 1941 г. Мне 15. Враг рвется к Москве. Наша деревня Борки Клинского района Московской области была крайней из занятых немцами. Продержались они 11 дней, а нам показалось — вечность. И даже сейчас многие эпизоды встают в памяти как живые.
Конец ноября 1941 г. Мне 15. Враг рвется к Москве. Наша деревня Борки Клинского района Московской области была крайней из занятых немцами. Продержались они 11 дней, а нам показалось — вечность. И даже сейчас многие эпизоды встают в памяти как живые.
В те дни я возвращалась домой из города Высоковска, что в 9 км от Клина, где я с начала войны жила у старшего брата. Его дочке было 3 месяца (теперь-то она журналистка, много лет трудится в «Вечерке»). Жена брата работала, а он подал рапорт о снятии брони и ожидал отправки на фронт. Ушел он в октябре, а в ноябре немцы заняли город. Наши сдали его без боя. Я пошла к родителям за 40 км пешком, т.к. никакого транспорта не было. Проходя по Клину, увидела, что многие дома разрушены, а когда вышла из города, то от людей, попадавшихся навстречу, узнала, что и нашу деревню Борки тоже бомбили. Одну семью (8 человек) засыпало в убежище. Около 20 домов сожгли из-за того, что партизаны убили немца. Они считали, что за одного немца должны пострадать 100 русских. Всех людей выгнали.
У ближайших родственников, родителей мамы, которые жили в 5 километрах от нашей деревни, свою семью я не нашла, и с двоюродной сестренкой (13 лет) отправились на их поиски. Мы не знали: то ли их засыпало в убежище, то ли по каким-то причинам они не смогли выехать. Шли напрямую через поле. Немцы были так напуганы партизанами, что они им мерещились даже в таких девчонках, как мы. Пули свистели у нас над головами и под ногами, взрывая мерзлую землю, а мы все бежали. Сначала во весь рост, не понимая, что это свистит, а потом, когда догадались, — ползком и перебежками.
Кое-как добрались до деревни, где жила старшая сестра со своей семьей. Они обрадовались, увидев меня живой. Обо мне не было никаких известий, и все считали меня погибшей.
А у нее свои беды. Во время бомбежки снесло угол дома, оторвало правую руку свекрови, а новорожденную дочку, лежавшую в кроватке в этом углу, засыпало осколками стекол, щепками и другим мусором. Но она каким-то чудом осталась жива. Кроме грудной, у сестры было еще трое детей, старшей из которых всего 7 лет.
Оставалось 3 километра до нашей деревни, и мы попытались туда пройти, но немцы нас не пустили. Дали два предупредительных выстрела вверх. Пришлось вернуться.
Только на третий день я нашла своих. В чужой деревне Непейцино, за полтора километра от нашей, в чужом доме, где в одной избе было 5 семей и около десятка немцев. Они спали на соломе в переднем углу, а мы ютились у порога. Об отдыхе, а тем более о сне, нечего было и думать. На одной скамье и нескольких табуретках мы сидели по очереди, отдавая предпочтение хозяевам.
Стояли жестокие морозы, а немцы были одеты очень легко. Они же не собирались воевать долго. У мирного населения отбирали теплую одежду и обувь. Не брезговали одевать и пуховые платки, если удавалось с кого-нибудь снять. Мой братишка пошел на улицу в новых валенках, а вернулся босиком, весь дрожа не только от холода, но и от возмущения. Кстати, в 1942 г. (в 14 с половиной лет) он добровольно ушел в истребительный батальон. По всем деревням летел пух — это немцы ловили кур, гусей, уток. Забирали все, что можно было съесть. Часто раздавался визг поросят под их ножами. Резали овец, коров. Люди стонали, но были бессильны что-либо изменить.
В последнюю ночь перед отступлением они совсем не спали. Топили печь-буржуйку, сушили носки и белье, бросали вшей в огонь. И очень часто вспоминали Наполеона. Папа (он не воевал из-за болезни) сказал: «Видно, придется немцам драпать от Москвы как и французам. Нам надо быть начеку». Среди ночи подожгли нашу родную деревню Борки. Было огромное ослепительное зарево. Один из немцев, взяв маму за руку, вывел ее на улицу и сказал на ломаном языке, показывая в сторону пожара: «Видь, матка, то русиш зольдат». Но мама смело ответила: «Русских там нет, а подожгли вы». Как ни странно, но он отпустил ее.
На рассвете неожиданно увидели, как от леса к деревне, где мы находились, бежали наши солдаты. В убежище уйти не успели. Начался бой. Ранило маму в ногу. К счастью, не опасно. Но и все мы остались в живых случайно, благодаря папе. Было так.
Немцы все разбежались. Двое из них совсем не успели обуться, а третий надел только один сапог. Мы даже шутили, что трое в одном сапоге убежали. Но один фриц забрался в сарай позади того дома, где мы были, и оттуда строчил из пулемета.
Вдруг команда: «А ну, Василий, прочеши-ка по этому окошку!» Папа услышал. Он быстро сообразил, по какому окну они собираются палить и крикнул, что немцев здесь нет. Двое зашли в дом и убедились, что это действительно так. Командир сказал: «Счастлив ты, отец, что вовремя закричал, иначе мы бы вас всех перекрошили. Мы же думали, что он из окна палит». Гитлеровца нашли в сарае полузамерзшим. Он все твердил: «Гитлер капут».
Все, что было съестного, мы притащили нашим бойцам и плакали от радости, услышав их не совсем цензурную речь. Но это была лишь небольшая передышка. Бойцы побежали догонять немцев, а мы — в убежище. Началась бомбежка. Тогда я в первый раз услышала пронзительный визг бомбы и увидела смерть. Тяжело раненый боец лежал на полу во всем обмундировании и всю ночь хрипел со свистом, а утром, не приходя в сознание, умер. Сердце разрывалось от жалости.
Забегая вперед, скажу, что эхо тех дней долго отзывалось бедами людей. Когда начал подтаивать снег, из сугробов иногда выступали тела убитых бойцов и даже отдельные фрагменты: рука, нога. Их хоронили в братских могилах. Вездесущие мальчишки находили гранаты. У одного из них она взорвалась в руках, но он чудесным образом остался жив.
Итак, деревня сожжена, жить негде, есть нечего, а до весны (до «подножного корма») ой как далеко.
Позади бывшего родного дома, на месте воронки от бомбы, соорудили землянку и жили в ней с освещением от «коптилки», пока не построили дом. Собирали с пожарища горелую и мороженую картошку, пекли из нее хлеб. Мы его «ситный» называли. Но не унывали. Главное — быстро развертывалось наступление наших войск. На другой день мы узнали, что наши в Клину, а на третий — в Крюково и что там идут жестокие бои. Панфиловцы стояли насмерть. Фашистов, наконец, выбили из Подмосковья.
Вскоре в учебных заведениях начались занятия, и я поехала учиться в Московский лесотехнический техникум (институт оканчивала уже после войны). А тогда нам давали пайку хлеба 400 г в день и какую-нибудь баланду. Хлеб разрешали брать за два дня вперед, и мы почти все съедали, пока шли от столовой до общежития, отщипывая совсем по чуть-чуть. А потом садились на корточки перед пустой тумбочкой, внимательно вглядываясь: не затерялась ли в уголочке какая-нибудь крошечка.
На помощь из дома рассчитывать не приходилось. Разве что иногда «ситный» привозили. Но и этому была несказанно рада, хотя такая радость выпадала нечасто. Дело в том, что до станции Правда Ярославской ж/д, где располагался техникум, немцы не добрались. А наша деревня была временно оккупированной. И несмотря на то, что их уже выбили из Подмосковья, въезд на бывшую оккупированную территорию даже в пределах одной области был ограничен. Разрешался по особым пропускам и крайне редко: один раз в семестр, иногда два.
Нас у родителей было 8 человек. А жили они своим хозяйством да трудоднями. К тому же еще надо было строить дом. А кому? Старшая сестра со своей семьей мыкалась одна. Братья все трое на войне. Две сестры на трудовом фронте: одну направили на торфоразработки, другую — с колхозным скотом подальше в тыл. Младшей — 11 лет. А ведь ее немец хотел распять на стене. Уже приставил к детскому лбу огромный гвоздь и молоток. Он все допытывался у мамы: приходили ли партизаны, и где они находятся. Но мама делала вид, что не понимает, чего от нее хотят, и на коленях умоляла не убивать девочку. К счастью, фашист не взял грех на душу.
Страшно подумать, что придется нам еще раз, или, не дай Бог, молодому поколению пережить такое. Большое спасибо всем участникам войны и трудового фронта, особенно тем, кто отстоял Москву и Подмосковье. Для фашистов это было началом конца.
С.Бударцева